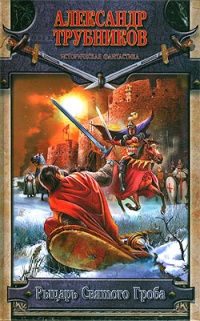Книга Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад - Мария Шенбрунн-Амор
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Голос Констанции потеплел:
– Может, к лучшему, что Тьерри Эльзасский отказался принести оммаж Антиохии. Никогда заносчивый граф не стал бы нам верным вассалом. Я попрошу короля заступиться за тебя перед императором.
– Король только возрадуется, если Мануил уничтожит меня. – Сгорбил широкие плечи, растерянно мял в кулаке край дочернего одеялка. – Тороса кто-то позаботился предупредить, что василевс вовсе не в Конию двигается, и Рубенид успел скрыться в горах. Говорят, армянский царь по всей Сирии голубями связь держит.
У Констанции от страха с лица кровь слила, она повернулась, чтобы встать с подоконника, отойти от окна, но не успела, Шатильон опередил ее, опустился рядом с ней на корточки:
– Меня вот никто не станет укрывать, – сгреб ее обеими руками, зарылся лицом в колени жены, его дыхание обожгло сквозь ткань. Констанция не выдержала, погладила коротко стриженый затылок, нежную, гладкую кожу шеи, провела пальцем по трогательно выпирающим позвонкам, по обрывающемуся на месте ворота загару. Он поднял к ней лицо, уставился молящими, сверкающими глазами: – Если бы я знал, где Торос, мне было бы что предложить Мануилу в обмен на прощение.
Констанция похолодела, растерялась, ответила бесцветным голосом:
– Да как узнать-то? Торос в любой пещере может прятаться, никто не знает Таврских гор так, как он. Все жители Киликии готовы укрывать своего армянского властелина.
– Все эти армяне, они все заодно, за своего царька в огонь и в воду. Даже мои армяне ему наверняка помогают. – Кивнул на запотевшее окно: – Вон, сколько тут голубей носится. Неудивительно, если Торос все из Антиохии узнает. А мне кто поможет?
Сам виноват, сам отвратил от себя всех, но что ей делать с этим шилом жалости, которое пронзает ее даже сквозь толстый слой злости и колет в самое сердце? Шатильон заслужил наказание, но ему грозила смерть. Рено теперь редко делает ее беззаботно счастливой, только никто другой по-прежнему на это и вовсе не способен.
– Рейнальд, зачем ты такой – безудержный, безжалостный и никакого страха в тебе?
Он свел брови, вздохнул, прижавшись к ее коленям щекой, признался:
– Не знаю. Ну не вложил в меня Господь ни жалости, ни смирения, ни страха. Только честь, и бешенство, и отчаянного упорства до отвала. Я знаю, чего хочу и знаю, как это взять, а мне мешают те, которые сами ничего не могут. Меня презирают те, что сами не стоят моего мизинца. Мне с самого начала пришлось только на себя рассчитывать, отец был щедр исключительно на побои. Даже своего первого Баярда и вооружение для крестового похода я был вынужден позаимствовать, не стал затруднять себя спросом, а папашу отказом. И с тех пор я сам по себе, сам за себя и против всех. Кроме тебя, душа моя.
Представила Рено маленьким, худеньким, беззащитным, испуганным мальчиком, похожим на Бо, и огромного, толстого отца, колошматящего малыша дубиной. Сердце сжалось. Она сама все знала о слабости и беспомощности нелюбимого ребенка. Униженное дитя выросло в рыцаря, неукротимого и мятежного, как Рено де Монтобан. За нанесенное оскорбление Монтобан убил племянника Шарлеманя, и мстительный Шарлемань много лет преследовал мятежного вассала. Так и Шатильон не боялся всем противостоять: патриарху, греческому императору и королю Иерусалима. Теперь все они ополчились на ее возлюбленного. Нет, она не может покинуть его:
– Пуатье сумел заставить себя склониться перед василевсом. И прощения просил на могиле Иоанна. Он сделал это ради Антиохии. Тебе следует повиниться, Рено.
Шатильон нашарил розовую пятку Констанции, забрал в теплую ладонь, принялся греть, пробормотал угрюмо:
– Мон Дьё, не за тем я прибыл в Утремер, чтобы землю перед греком целовать.
– А зачем? Погубить нас всех? О, Рено, когда-нибудь тебе уже никто не сможет помочь.
От его руки жар расползался по телу, захотелось прижаться к нему, уткнуться лбом в плечо, вдыхать запах его кожи, и не отпускать. Рено без обычного гонора пробормотал свою обычную присказку:
– Я прибыл нагнать страху на весь Восток и прославиться на весь Запад. Но, если ты мне не поможешь, я закончу мои дни в Константинопольском каземате. Душа моя, разузнай у Грануш, где Торос скрывается, а?
Констанция сглотнула захлестнувший горло ком любви, страсти, нежности, пересилила себя, не ответила. Шатильон завладел ее стылой, безжизненной рукой, перевернул, уткнулся в ладонь, поцеловал, обдавая теплым дыханием:
– Ты мерзнешь, жена? Ты холодна ко мне, словно монашка…
Констанция покачала головой: ах нет, вовсе, вовсе не холодна. Он почуял, что она дрогнула, стал льнуть, как большой пес, вцепился манящим, ласковым, хмельным взглядом, забормотал хрипло:
– Милая моя Констанция, у меня ведь никого, помимо тебя. Ты – единственный мой человек на этом свете, единственная, отдавшая мне все, что имела. Спаси меня.
Все ее обиды и весь гнев таяли, стоило ему приголубить ее. Грехи Рено вопияли к Господу и даже у нее вызывали отвращение, но душу, как подцепленную на крючок рыбу, тянул и переворачивал страх за него, веселого, отчаянного, бесшабашного. Киприотские вилланы были заложниками своего василевса, а княгиня – заложницей безобразий и неразумия Шатильона. Вилланов, конечно, жалко, но небеса наверняка позаботятся о несчастных, а вот за заблудшего Рено, кроме нее, ни на земле, ни на небе никто не станет заступаться.
– Ты что, думаешь, армянский царь нашей Грануш докладывает, где он прячется?
– Она все знает. Или может узнать, если захочет.
– Да она никогда мне не скажет.
– Даже ради моего спасения?
Защипало в носу. У Рено, и правда, никого нет, помимо нее. Татик ради князя и пальцем не шевельнет. Когда-то Констанция не смогла простить Пуатье, и ничего хорошего из этого не вышло. Достаточно Шатильон напуган и унижен.
– Рено, я умолю епископа Латакии заступиться за тебя, у него с греками хорошие отношения. И потребую, чтобы Бодуэн исполнил свой долг нашего сюзерена – выступил в твою защиту. Я буду молиться за тебя, Рейнальд. Но главное, склонись перед императором. Для автократора ничего нет важнее его гонора. Ради твоего поклона он все забудет и простит.
Шатильон уже отряхнулся от уныния, уже снова скалил зубы в волчьей ухмылке, руки уже проникли под ее сорочку, гладили тело жены, в голосе вновь послышалась насмешливая уверенность:
– Я знал, что ты меня не покинешь, что моя Констанция спасет меня. Может, я не святой и не могу равняться с прочими баронами смирением и покладистостью, но был бы я как все, я бы сейчас не с княгиней Антиохии обнимался, а с сапогами соседнего ратника на соломе донжона.
В холодном ночном воздухе доносился издалека узнаваемый бой любимых колоколов: привычно гудел гулкий, мощный бас Большого Петра, ему вторил надтреснутый звон Старой Урсулы и переливался серебряный благовест Сладкой Анны. На дворе залаяла собака, со стылых улиц ответили гавканьем и воем прочие псы, донесся унылый крик ночного сторожа. Констанция натянула беличье покрывало на мерзнущие плечи, вдохнула въевшийся в шкуру запах собственных благовоний и пыльную затхлость старого меха. Шатильон безмятежно спал, закинув руку за голову.